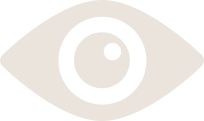Cодержание
Думаете, уроки литературы — это длинные полотна текста, зазубривание стихотворений и миллионы написанных сочинений, а еще — рассказы МарьИванны, что Пушкин — наше все?
Тогда вы просто не видели, как учит Никита Малашенко, который ведет Блог литературного препода и готовит к ЕГЭ не так, как многие привыкли. Он помогает юным гуманитариям видеть литературу в бытовых вещах и развивать критическое мышление.
Мы встретились с Никитой субботним вечером в кофейне Floo и обсудили альтернативное образование и нестандартный подход к изучению школьных предметов.
О создании Блога литературного препода и работе над ним
Расскажите, что подтолкнуло к созданию «Блога» и началу преподавания?
— Преподавать литературу я начал неожиданно для себя. Когда поступил на факультет журналистики МГУ, пробовал работать в медиа, но это быстро наскучило. Вскоре стал репетитором по литературе и начал учить школьников в образовательном центре. Пробыл там два года и понял: когда варишься в литературно-преподавательской каше, появляется много историй, которые хочется рассказать, но некому или некогда. Поэтому я и создал «Блог литературного препода». Сначала это была группа для учеников, где мы постили локальные мемы, смешные цитаты из сочинений и приколы из литературного мира. Потом это стало полноценной платформой, где все еще можно посмеяться, но при этом и узнать что-то новое.
Не знаю, было ли преподавание моим призванием, но оно стало делом, от которого я кайфую каждый день. Причем, когда ведешь свой проект, преподавание притягивает и другие интересные сферы: от бизнеса и маркетинга до журналистики и современного искусства. Тяжело было представить в 11 классе, что стану преподавателем со своим проектом. Нужно к этому прийти «лукавыми» путями и понять, что это действительно твоё.

Ваши вкусы достаточно специфичны. Почему решили начать подготовку именно с разбора современных исполнителей, искусства и творчества в целом?
— Специфичность — наше все. (Смеется). Я предложил анализировать современное искусство, потому что это близко нынешним школьникам. Конечно, можно объяснить теорию литературы и на классических произведениях, но ведь куда интереснее разбирать на том, с чем старшеклассник сталкивается каждый день. Ведь, на самом деле, мы гуляем на улице, а вокруг нас теория литературы.
Теория, которая нужна в ЕГЭ по гуманитарным предметам, — основа любой креативной сферы. Начиная от создания дизайна, написания сценария и заканчивая выпуском логотипа. Это то, что окружает нас здесь и сейчас, поэтому и интересно исследовать современное, подвергать это сомнению и открывать нечто новое. Когда осознаешь, как устроено то, что окружает сегодня, понимаешь принципы того, что было раньше, и наоборот. Если у ученика получается расшифровать текст Оксимирона, не будет проблем и с разбором лирики, например, Мандельштама или Блока. Да, есть свои нюансы, но механизмы анализа везде одинаковые.

Вот Вы сказали, что человек, окончивший пед, будет хуже разбираться в литературе, чем филолог. Но, с другой стороны, Вы не переживали, что большинство преподавателей окончили филфак или пед, а Вы — журфак?
— Комплексы были, это большая боль не только в преподавании: люди, которые приходят в журналистику из других специальностей, часто обретают «синдром самозванца». А в преподавательской профессии подобное ощущается острее: это сфера, где не любят чужаков. Сейчас многие управляющие образовательным бизнесом и директора школ работают над созданием комфортной преподавательской среды. Пока действительно рабочую подобную систему я видел лишь в «Новой школе» (частная общеобразовательная московская школа, в которой стремятся сделать обучение комфортным для учеников, — прим. ред.) и частично в Лицее НИУ ВШЭ.
У меня комплексы исчезли в первый год преподавания. Я тогда работал в образовательном центре вместе с кандидатом филологических наук и с бывшим школьным учителем. Они профессионалы, и с новичком вели себя тактично. Но мне казалось, что я не дотягиваю до занимаемого места. Однако в первый же год у меня появилось четыре стобалльника, а у коллег результаты были не настолько хорошие. Благодаря моим ученикам средний балл по предмету в центре увеличился и я понял, что отсутствие педагогического образования не умаляет знаний и умений.
О российской системе образования (и не только)

Что Вы думаете об альтернативном образовании в России? Есть ли ему место в достаточно консервативной школьной системе?
— Я не педагогический теоретик, поэтому компетентный ответ дать пока не могу. Могу лишь рассказать об ощущениях и своем проекте. Я представляю «Блог литературного препода» не как пример альтернативного/ традиционного образования, а как альтернативу тем подготовительным курсам, которые есть сейчас в России.
Что касается нашей страны, альтернативные школы есть, и у них здорово получается транслировать свои ценности. Например, когда я посетил «Новую школу», подумал, что нахожусь в американском учебном заведении. Это проявляется во всём: от поведения учеников, здоровающихся с незнакомым человеком, до атмосферы, которая создается при помощи планирования пространства, дизайна, живых уголков. Думаю, на примере этой школы видна постепенная гуманизация учебы. Она становится не целью жизни, как это было во времена наших мам и бабушек: сначала школа, потом универ, а затем распределение, и на работу! Сейчас «новое» образование пытается превратиться в инструмент, который помогает достичь цели и стать счастливым человеком.
Важно помнить, что не цифра после экзамена определяет дальнейший путь. Можно гениально сдать ЕГЭ, получить 400 баллов, поступить на лучший факультет топового вуза, но провести 11 класс, самый яркий год школьной жизни, как вкалывающий ишак. А, спустя время, понять, что в тот год, когда можно еще было разобраться в себе, занимался только набором баллов, а не своей жизнью. В таком случае, есть риск понять, что работа проделана зря, специальность не нравится, а счастье, за которым так гнался, — не достигнуто.
Не результат важен, а человек, который его добивается. В центре учебного процесса должна быть не цифра, а ученик. В «Блоге литературного препода» эту идею мы и проповедуем.
О (не)типичных учениках
Можете описать типичного старшеклассника, который к Вам приходит?— Когда только начинал работать над проектом, пытался представить типичного ученика. Но в какой-то момент понял, что имею дело не с представителем шаблонной группы, а с разносторонним человеком. Поэтому сложно описать учеников точно, но мы добились такого фильтра, что к нам приходят люди, с которыми хочется заниматься. Это те мотивированные, интеллектуально превосходящие своих сверстников подростки, понимающие, чего хотят добиться в жизни.

Что Вы думаете о нецензурной лексике, откровенных сценах, насилии в литературе? Как относитесь к тому, что школьники разбирают такие темы?
— Откровенные сцены литература, в особенности русская, на мой взгляд, показывать не умеет. И тема разврата и насилия в книгах не оказывает катастрофического влияния на подростков, возможно, это даже неплохой способ познакомиться с другими гранями жизни.
Что касается насилия, куда большее влияние оказывает жестокость в кинематографе. Я знаю кучу историй, когда люди особо впечатлились от «Пилы», «Челюстей», от «Сербского фильма». Даже недавняя «Игра в кальмара» своей жестокостью кого-то удивляет. И я вот без труда могу представить, как в некоторых моментах этих фильмов впечатлительные зрители закрывают глаза, но мне тяжело представить, что убийства в «Преступлении и наказании», «Леди Макбет Мценского уезда» или «Тихом Доне» могут оказать такой же эффект на читателя. В конце концов, когда мы говорим о такого рода литературе, изображение убийства и смерти в них — не цель, а инструмент. Уверен, Достоевский не ради забавы написал роман на 400 страниц, где главным эпизодом станет убийство.
А вот про нецензурную брань в искусстве рассуждать можно много, об этом уже открыто говорят. Послушайте «Розенталь и Гильденстерн», Arzamas — там увлекательно про мат рассказывают. Мне кажется, нецензурная лексика — то, что человек может не использовать всю жизнь, но при этом выкинуть из языка невозможно. Стоит разграничивать поток брани от пьяного мужика в подъезде и тот мат, что используется в современном искусстве. Первое — это бескультурье, второе — средство. Многие еще помнят матерную считалочку от Оксимирона в начале одного из баттлов. Но можно ли было сделать то же самое, не используя мат? Нет: здесь он стал основой произведения. В такие моменты брань воспринимается как литературный инструмент.
В свои материалы я могу ввести то, что считается нецензурным, если это необходимо для разбора. Не считаю это чем-то плохим и недопустимым. В любом случае такие слова знают все. Так что тут я руководствуюсь внутренними критериями самоцензуры. Именно поэтому не был и не стану лицемером, который говорит: «Мы здесь искусством занимаемся». Все же прекрасно понимают, что и Пушкин, и Есенин, и Маяковский использовали мат как инструмент передачи чувств и экспрессии. Здесь важнее не ограждать от мата, а объяснять, как им пользоваться и в каких случаях можно употреблять.