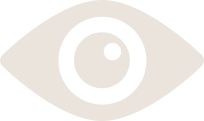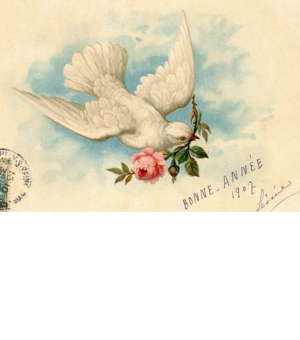Я очень долго не могла найти дом Пелагеи Григорьевны Субботиной. Позвонить и уточнить я не могла: 97-летняя героиня войны мобильным не пользуется. В школе мне дали только ее адрес в поселке Первомайский Оренбургской области.
Однажды я уже писала о Великой Отечественной войне. Точнее, о моей прабабушке, ветеране труда. Все детство я с трепетом слушала ее воспоминания: она была осуждена за кражу картофеля, повидала ГУЛАГ. Судьба ее — хуже некуда, но старость оказалась спокойной и радостной.
Тогда, около года назад, военная тема оказалась для меня очень сложной. Мне хотелось снова попробовать поработать над ней. Так что я с радостью согласилась, когда в школе мне предложили поучаствовать в создании книги памяти.
И вот зимой я отправилась в гости к одной из трех ветеранов, живущих в моем родном поселке Первомайский. Без предупреждения, на свой страх и риск. Если честно, я боялась, что мне не откроют – до 9 мая еще далеко, повода для визита нет, кто я такая, непонятно. Тем более, что, как мне сказали в школе, Пелагея Григорьевна живет одна, заботится о ней социальный работник.
На месте меня встретили бесконечные пятиэтажки и почти безлюдные улицы. Я никак не могла найти нужный дом и, увидев женщину с ребенком, ринулась к ней:
– Извините, вы не знаете, где Девятой пятилетки, 1А?
– Так не подскажу, – нахмурилась женщина. – А куда тебе надо?
Не знаю, почему, но я честно ответила:
– Хочу взять интервью у ветерана войны.
Представьте мое удивление, когда я услышала:
– А, ты к Пелагее Григорьевне?
Оказалось, что все в округе о моей героине слышали. Женщина подсказала дорогу, но я еще несколько раз уточняла у прохожих. Дом 1А знали не все. Пелагею Григорьевну – каждый.
Дверь мне открыл улыбчивый пожилой мужчина: «Ты, наверное, к маме? Проходи!».
Пелагея Григорьевна обрадовалась, но, кажется, совсем не удивилась моему визиту. Ее двери всегда открыты: к ней часто заходят соседи – и взрослые, и дети. На случай гостей у нее всегда есть конфеты, ее любимые лимонные карамельки и мармеладки. Вот и сейчас она хлопочет, говорит, нужно чай заварить.
«Вот мамины награды!», - вернувшись с кухни, сын Василий с гордостью показывает мне медаль Жукова «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне» и множество юбилейных. Пелагея Григорьевна смущается и признается, что многое уже подзабыла, но постарается ответить на все вопросы.
И вот, чай - вкусный, ароматный, с ромашкой - разлит по чашкам. Пелагея Григорьевна начинает рассказ.
Она родилась 10 января 1923 года в селе Никольское Краснохолмского района (ныне Оренбургский район) и в семь лет осталась сиротой: мать умерла от воспаления легких, отец - от аппендицита. Ее старшая сестра, Нюра, решила как можно скорее выйти замуж, чтобы обеспечить какие-то условия жизни своей сестренке и двум младшим братьям. Но это не помогло: еды не хватало, и муж Нюры сдал двухлетнего Колю и малыша Ваню в детский дом. Через некоторое время Ваню забрали назад, но прожив дома всего неделю, он умер от кори. А вот маленького Колю Пелагея больше никогда не видела и очень жалеет о том, что он, наверное, даже и не подозревал, что у него где-то была любящая семья.
Отношения с сестрой близкими не были. «Как вы справились, как пережили утрату?» - спрашиваю я. Пелагея Григорьевна улыбается, вздыхает и говорит, что для горести времени не было. В свои детские руки она взяла все обязанности по дому, заботилась о трех детях Нюры, а потом ее отправили работать в колхоз. А вскоре все изменилось навсегда.

В 1941 году пришла война. Пелагея тут же бросила 7 класс - тем более, учеба ей давалась сложно, она оставалась на второй год – просто не успевала.
Мужчины один за другим отправлялись на фронт, и к 1943 году село Никольское опустело. Тогда призыв в армию получила и восемнадцатилетняя Пелагея.
Со всего села были выбрали только двух девочек: ее и Варвару. Мне было сложно представить, насколько они испугались. «Как вы только решились отправиться на войну?» - спросила я. «Ну как – надо! Комсомолкой была. Надо – и все. Отказываться нельзя! Я так подумала», – просто ответила Пелагея Григорьевна.
Сперва девочек повезли в Москву – и после обучения перебросили под Ленинград. Вплоть до Великой Победы они вместе служили в зенитном артиллерийском полку на станции Мста. Главной задачей было - сбить как можно больше вражеских самолетов и защитить гидротехническое сооружение от их атак. Девочки освоили прибор для автоматического наведения зенитных орудий. «Мы работали на приборе этом, моховики крутили, данные передавали оружейникам, а они по нашим данным стреляли», – просто объясняет Пелагея Григорьевна.
Глядя на многочисленные медали моей собеседницы, я прошу подробнее рассказать о войне, о боях. Пелагея Григорьевна отмахивается: помнит плохо. Ее сын говорит, что раньше она охотно вспоминала детали – а теперь уже этой темы избегает.
Зато Пелагея Григорьевна рассказала мне про первый день на службе. «Был полдень. Внезапно раздался жуткий гул и крик: «Гитлер летит!», - вспоминает моя собеседница. – «Я увидела в небе немецкие самолеты. Они как черные птицы были, огромные, страшные. Со всех сторон полетели ракеты». Никакого геройства в тот момент не было: Пелагея Григорьевна вспоминает, что в ужасе упала на землю и зажмурилась. И тогда кто-то – она не знает, кто именно - сказал: «Не надо бояться, надо врага бить!». Эта фраза как-то привела ее в чувство – и навсегда запомнилась.

«Век плохой – да люди хорошие»
Незаметно рассказ перетек в мирное и даже веселое русло. Пелагея Григорьевна охотно рассказывает, как перерыве между атаками они с однополчанами ходили за ягодами, как всегда находили силы подбадривать друг друга. «Как бы ни были голодны наши желудки – смеялись все! Век плохой, да люди хорошие» - улыбается Пелагея Григорьевна, поименно вспоминая товарищей: командира полка старшего лейтенанта Ивана, командира взвода младшего лейтенанта Ивана Закерьёнка, командира отделения сержанта Надежду.
После войны полк еще некоторое время простоял на станции Мста. Пелагея с однополчанами работала на огородах, и только в сентябре они с Варварой вернулись в родное Никольское. Там ее жизнь вернулась в привычную колею. Она снова работала в колхозе, получила почетную в то время должность конюха. Вслед за этим вышла замуж за Василия Субботина – просто, без всяких свиданий и романтических встреч. Родители юноши по старинке предложили сыграть свадьбу – и Пелагея не нашла причины отказаться. Через некоторое время новобрачные переехали на станцию Донгузская, в тот самый поселок Первомайский, где Пелагея Григорьевна живет по сей день. С Варей, кстати, они больше не общались – жизнь развела.
У Пелагеи родились 2 детей, сын живет в Оренбурге. «Я ее постоянно зову переехать ко мне, а она ни в какую! – жалуется Василий. – Тут ее действительно все знают, на День Победы до сотни гостей бывает. А в городе что? Вот и приезжаю по выходным, а на неделе соцработник помогает, соседские дети навещают».
По словам Пелагеи Григорьевны, она очень благодарна за спокойную и счастливую старость. «Лучшее, что для меня придумали – это балкон и телевизор», - заявляет она и улыбается. Глядя на нее - лучезарную, веселую, постоянно смеющуюся – я понимаю, что она действительно получает удовольствие от каждой прожитой минуты, от самых незаметных мелочей: от сладостей, долгих чаепитий, общения с близкими – и случайными гостями, одним из которых посчастливилось стать мне.
Я думала, что интервью займет не более часа, но когда я вышла из дома Субботиных, уже начало темнеть. Шла и улыбалась. Я собиралась отдать дань уважения героине войны, сделать что-то для нее – но меня не покидало чувство, что взамен я получила гораздо больше. Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы, несмотря ни на что, наливать гостям чай, искренне улыбаться и абсолютно честно говорить, как 97-летняя Пелагея Григорьевна: «Ни о чем не жалею. Ни грамма!».